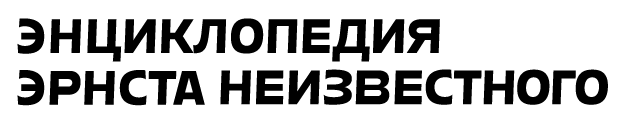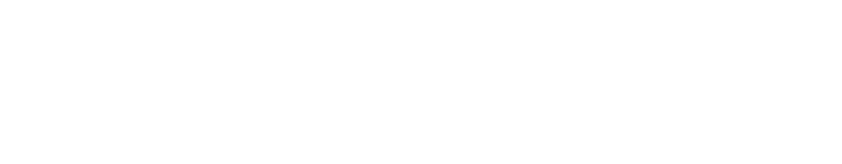Обложка: Эрнст Неизвестный. 1990-е
© Архив Анны Грэм / Художественный музей Эрнста Неизвестного
ГЛЫБА
В мастерскую к Эрнсту Неизвестному, что располагалась в нью-йоркском Сохо — районе, который с давних пор населяли все известные в Америке художники и музыканты — я шёл с волнением. И всю дорогу, помнится, не мог преодолеть это чувство.
Была середина 90-х, ранняя осень. Нью-Йорк жил своей напряжённой и разноликой жизнью, наполненной бесчисленным количеством звуков, доносимых от проезжающих мимо авто, от китайских торговцев, снующих со своими тележками, от звонких голосов малышей, гуляющих вместе с родителями по этому самому Сохо. И где-то тут была мастерская Эрнста Неизвестного, которого один из критиков назвал ни больше ни меньше, как современным Микеланджело. Неизвестный к тому времени уже считался классиком мирового искусства, перед которым распахивались двери многих известнейших музеев мира и которого считали честью принимать едва ли не все политики современного мира.
К нему я и шёл на встречу.
Неизвестный виделся мне глыбой, не покорёженной войной, которую он прошёл командиром десантного взвода, с контузиями и ранениями, как и подобает настоящему фронтовику-орденоносцу. Он оставался глыбой, несмотря на окрики партийной номенклатуры, которые получал регулярно. На него в прямом смысле слова топал ногами Хрущёв — в начале 60-х, во время своего посещения известной выставки в московском Манеже, — за то, что Неизвестный «создает образы не советских людей, а гомосексуалистов». А сам Неизвестный держался стойко перед раздражёнными взглядами Никиты Сергеевича и других высших партийных бонз — как делал это во всех трудных ситуациях для себя.
Неизвестный продолжал быть глыбой и в условиях эмиграции — когда ему было очень сложно, особенно в первые годы, и приходилось постоянно доказывать, что он кое-чего стоит в современном мире монументального искусства. Но Неизвестный и тогда не согнулся.
«Лейтенант Неизвестный Эрнст…
На тысячи вёрст кругом
Долину утюжит смерть
Огненным сапогом.
В атаку взвод не поднять,
И снова в радиосеть
В атаку зовут… твою мать,
И Эрнст отвечает: «Есть».
Но взводик твой землю ест —
Отчаянно-недвижим…
Лейтенант Неизвестный Эрнст
В атаку идёт один»
Это из стихотворения Андрея Вознесенского. Мне всегда казалось, что в этом весь Неизвестный — весь, независимо от того или иного периода его жизни — по-настоящему мужественный человек, воспринимавший мир честно и бескомпромиссно. Не прогнувшийся под систему и никогда не заигрывавший с ней, что для меня всегда было проявлением высшей пробы в оценке любого человека. И поэтому слова Вознесенского звучали камертоном при восприятии Неизвестного всегда — неважно, какая политическая погода стояла во дворе.
…Дверь мне открыл сам Неизвестный, которому по телефону я пообещал привезти какие-то письма из Екатеринбурга — города, где когда-то встретились его папа-врач Иосиф Неизвестный и мама-будущая писательница Белла Дижур, города его молодости, откуда он уходил на фронт и куда возвратился вновь в 46-м, после военного госпиталя. К этому времени родители получили на Эрика две похоронки. А он выжил.
Неизвестный при встрече был одет в замусоленные джинсы, и на руках его оставались следы от глины. За минуту до этого он наносил её на одну из своих незаконченных скульптур и попросту не успел смыть с рук остатки материала. При рукопожатии его сильной руки бросилось в глаза полное отсутствие ногтей.
— Оставил в Магадане, — объяснил мне Неизвестный уже в ходе нашего разговора. — Холодновато там зимой. За полгода работы на улице ногти и раскрошились. Врачи сказали, что не восстановятся.
— Вы что, сами все делали? Но для этого же набирают рабочие бригады.
Я и сам не понял, зачем это спросил. До этого довелось читать, что бригада была, и ни одна, но скульптурная композиция, посвящённая жертвам ГУЛАГа, оказалась настолько сложной в реализации и объемной по масштабам, что Неизвестному неизбежно приходилось самому контролировать весь этот процесс. И делать это по 12 часов в сутки на всепроникающем холоде.
— Сам, — мотнул головой Эрнст Иосифович, вновь взглянув на свои руки. — В этом я видел что-то очень важное для себя. Дань памяти десяткам тысяч ни в чем не повинных людей. Мои смерзшиеся пальцы — ничто по сравнению с тем, что прошли эти зэки.
Неизвестному было трудно говорить. Он сидел передо мной с температурой + 39, лицо его в буквальном смысле горело от простуды. Было страшно неловко донимать Неизвестного вопросами, и вместе с тем я отчетливо понимал, что другого случая спросить, скорее всего, более не представится. И спрашивал.
По поводу монумента на могиле Хрущева, автором которого стал Неизвестный, к тому времени была написана целая куча всего и вся. И о том, как непросто рождался в голове скульптора замысел этого памятника, и о том, с какими трудностями «пробивала» себе дорогу сама его реализация… Я спросил Неизвестного, не было ли у него желания «послать» домочадцев Хрущева куда подальше, когда они обратились к нему с просьбой о надгробии — памятуя о том, как травил его сам Хрущёв.
Неизвестный отрицательно покачал головой: «Хрущев был сложным человеком и сделал много чего нехорошего, гадкого даже. Но его доклад на 20-м съезде партии о сталинском культе личности, пусть даже закрытый, — это то, что перевешивает все хрущевские дела. Я воспринимал его так и в 56-м, и сегодня.
Слушая Неизвестного, ловил себя на мысли, как прекрасно он говорит. Никаких оговорок и слов-паразитов! Речь чистая, правильная, красивая — результат не столько образования, сколько самообразования Неизвестного, его, без преувеличения, гигантской начитанности. В перерывах между работой, по ночам. В этом тоже проявила себя его сила духа. Желание знать, а не верить на слово, быть, а не казаться.
За несколько лет до нашей встречи Неизвестный приезжал в Екатеринбург. Во время его выступления в Уральском госуниверситете я передал ему записку с вопросом, ощущает ли он радость от того, что ему приходится практически ежедневно, по многу часов, заниматься каторжным трудом скульптора-монументалиста. Тем, от чего неизбежно утрачиваются силы и здоровье.
Неизвестный тогда ответил, что никогда не воспринимал свою работу как подёнщину. Даже, когда по тем или иным причинам не удавалось воплотить задуманное в жизнь. «Мне кажется, что человек становится лучше и сильнее только в условиях неудач, — ответил он со сцены, — Не всегда, правда. Здесь многое зависит от личной силы духа. Но одни успехи никогда не сулят движения к совершенству. И сытость не сулит тоже».
Вот и теперь, спустя шесть лет, передо мной сидел художник мирового уровня, прошедший не только огонь и воду, но и медные трубы. Но эти трубы не поколебали характера Эрнста Иосифовича — бескомпромиссного, как всегда. Неизвестный не стал сытым. Несмотря на мировую славу.
Он оказался тем редким человеком, который в условиях такой славы остался… настоящим человеком. И пронёс своё состояние души вплоть до своей смерти в 2016-м, когда ему было за 90. У него до конца сохранились не просто здравость рассудка и адекватная оценка самого себя, но и потребность творить. В одном «флаконе» всё это бывает редко по нынешним временам.
…А я и сегодня часто вспоминаю наш тогдашний разговор с Эрнстом Неизвестным. И его внимательный взгляд, всегда мудро сканировавший жизнь.
Читать также