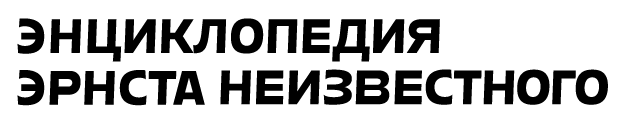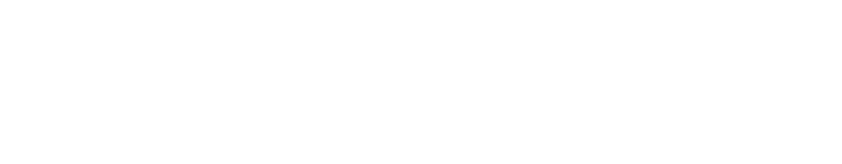Источник: Ирина Зорина–Карякина. Неизвестный. Человек, проходящий сквозь стену. Журнал «Веси». №3, 2019.
Ирина Зорина–Карякина
Тело тленно, но дух вечен
Однажды, уже к концу 2015 года, ночью в моем все более одиноком переделкинском доме раздался звонок. Из Нью-Йорка. Эрнст Неизвестный.
– Хочу поблагодарить тебя. Знаешь, я получил к своему юбилею два стоящих подарка. Один – здесь, второй – в России. Это твоя статья «Проходящий сквозь стены».
– Эрик, милый, – растерялась я как всегда, услышав его голос.
– Я же в основном использовала Юрин дневник.
– Ты всегда пряталась за Юру. А я всегда знал, что ты значила в его жизни по-настоящему и что ты значишь сама по себе. Потому и хочу тебе сказать, ты поймешь меня. Знаешь, Ира, у меня в голове много идей, руки хотят лепить гипсятину, ваять… А я не могу сам дойти до туалета. Да понимаешь ли ты меня?!!…
– Эринька, милый, – бессильно лепетала я. – Я все это знаю, с Юрой прошла. Родной мой, я тебя понимаю, люблю.
Господи, почему к концу жизни мы, или многие из нас, обречены на физическое бессилие, хотя голова работает, хочется еще многое сделать, старым себя не чувствуешь, все еще вкусно, сочно, радостно и кажется доступным… Как мне это знакомо.
Это был наш последний разговор с Эрнстом Неизвестным, уже стоявшим на пороге своей смерти, случившейся 9 августа 2016 года в Нью-Йорке.
ИХ СВЯЗАЛА ПОЛУВЕКОВАЯ ДРУЖБА
Когда Карякину стукнуло 75 лет, и друзья, собравшиеся на его праздник в Переделкино, в Доме Булата Окуджавы, шутили: «Юра, ты одурел?» (припоминали его знаменитое – «Россия, ты одурела!») – из Нью-Йорка пришла телеграмма: «Нам с тобой выпало редкое счастье пронести нашу дружбу через долгие и непростые годы. Будь здоров и вечен, друг мой. Твой Эрнст Неизвестный».
Над рабочим столом Карякина всегда висел фотопортрет Эрнста, подаренный им в дни отъезда в эмиграцию. А рядом на книжной полке – его бронзовая скульптура – «Каин и Авель». Скульптура символическая. Двое душат друг друга, а корень – общий. Себя и душат. Они как бы слиты. Лиц почти нет: в драке, зверея, человек теряет лицо и обезображивается. На головах – каски. Но это, конечно, не просто отклик на минувшую войну: вся история человечества – история войн. И все войны в сущности – гражданские, братские, если действительно считать, что люди – братья. А отверстие в середине скульптуры – в форме сердца. Получился потрет человечества и человека (разве каждый человек сам себя не душит?). Гениально простая, страшная и понятная всем метафора.
Карякин всю жизнь относился к Эрику с огромной любовью, буквально боготворил его. И именно эта любовь помогала ему понимать сложное искусство этого гения. Писал о нем мало, всегда сомневаясь – можно ли ему, «непосвященному»?
Познакомились они в 1965 году. Мераб Мамардашвили и Борис Грушин привели Карякина в первую мастерскую Эрнста, в подвальном помещении, в Большом Сергиевском переулке на Сретенке. Сам Карякин так вспоминал об этом: «…покоренный его напором, голосом, скоростью и беспощадностью мысли, а также натуральным, врожденным даром быть всегда “хозяином разговора”, – как-то сразу подружился с ним. Я еще ничегошеньки не понимал в его работах и лишь чуть-чуть на-чал догадываться о его фантастических замыслах».
К этому времени Неизвестный был уже хорошо известен в художественных кругах Москвы, Ленинграда, Свердловска, откуда был родом. Одна из его еще студенческих работ получила международную медаль, а другая – «Строитель Кремля Федор Конь» была выдвинута на Сталинскую премию (он ее, конечно, не получил) и куплена Русским музеем. О нем заговорили.
Фестиваль молодежи и студентов в 1957 году принес ему две медали. В 1959 году его проект монумента Победы победил на Всесоюзном конкурсе, но сделать ему не дали. Сделать памятник доверили сталинскому лауреату Вучетичу. В Советском Союзе был один работодатель – государство, и на поприще монументальной скульптуры разгоралась жесткая борьба за раздел государственного «пирога».
А после провокации, устроенной в Манеже первого декабря 1962 года против молодых художников, о столкновении Неизвестного с Хрущевым и его свитой уже ходили легенды. Разъяренный премьер кричал на Неизвестного: «Проедаете народные деньги и производите дегенеративное искусство!» А глава КГБ Шелепин пригрозил ему: «Пыль будешь глотать в урановых рудниках». И получил в ответ: «Вы не знаете, с кем вы разговариваете, вы разговариваете с человеком, который может каждую минуту сам себя шлепнуть. И ваших угроз я не боюсь!» А в конце довольно долгого разговора с молодым скульптором Никита Сергеевич сказал ему: «Вы интересный человек, такие люди мне нравятся, но в вас сидит одновременно ангел и дьявол. Если победит дьявол, мы вас уничтожим. Если победит ангел, то мы вам поможем».
Встреча в Манеже на многих навела ужас. Художники МОСХа боялись подать Неизвестному руку. Сам он, как потом признавался, ждал ареста и… ваял, работал, работал. В те драматические дни создал две скульптуры – «Пророк» и «Орфей», с разорванной грудью, высотой в 2 метра! Они стояли справа и слева от двери в его мастерской, сколько помню. А теперь небольшая статуэтка, изображающая древнегреческого музыканта Орфея, который играет на струнах собственной души, стала главным символом Всероссийского телевизионного конкурса ТЭФИ. (Оригинальный «Орфей» находится в Нью-Йорке).
Имя Неизвестного вычеркнули из списка Союза художников, он перестал получать заказы и материалы, а его работы перестали выставлять.
В 1966 году Неизвестный стал победителем международного конкурса скульптуры в Югославии. Но когда об этом узнали в Союзе художников, Неизвестного тут же обвинили в «связях с иностранцами».
«ДЫРЫ» НЕИЗВЕСТНОГО И МУРА
Карякин написал в 1967 году по просьбе английского историка искусств Джона Бёрджера, автора монографии о Неизвестном, предисловие к английскому изданию – «Если можно непосвященному». Начал так: «Я горд тем, что мой соотечественник – Эрнст Неизвестный совершил и совершает выдающиеся художественные открытия, имеющие не только национальное, но и общечеловеческое значение. <…> Неизвестным создано около трехсот скульптур, несколько тысяч рисунков… Он победитель международных конкурсов скульптуры. <…> Ландау, Капица, Шостакович, Коненков приветствовали смелость мастера. Одного этого уже достаточно для того, чтобы попытаться определить место Неизвестного в современном искусстве, не уповая на так называемый беспристрастный “отбор Времени”, на “неподкупный Суд Истории”, как будто отбирать и судить может кто-нибудь, кроме самих людей. Слишком часто апелляция к “Высшему Суду Истории” и “Времени” есть форма, скрывающая боязнь ответственности и означающая, говоря словами Достоевского, “стыд собственного мнения”».
Свое предисловие отправил через ВААП, где его замотала цензура. И, конечно, опубликовать статью на родине ни в одном журнале не удалось. А потом и сам автор, после его исключения в 1968 году из партии за «идеологически неверное…», попал в «черные списки».
Юра рассказывал мне, как трудно было ему поначалу понимать искусство Неизвестного. Что мы знали тогда о скульптуре? Ведь жили все под конвоем сотни Лениных, указывающих путь к коммунизму (каждый раз в разные стороны), Дзержинского в долгополой шинели на Лубянке, да устремленных вперед к светлому будущему «Рабочего и колхозницы».
Как-то Эрнст спросил своего молодого друга: «Все что-нибудь говорят о работах, а ты почему-то молчишь?»
– Эрик, ты переселил меня в какую-то санскритскую страну, а я пока ни слова на этом языке не знаю. Дай мне время на ликбез…
Со свойственным ему упорством Карякин принялся за лик-без, тем более что с ним произошел такой курьезный случай. Его университетская подруга Лиля Лавинская привела его в мастерскую своего брата скульптора Никиты Лавинского, который приобрел довольно широкую известность в те годы. В 1967 году он поставил в Костроме, при поддержке свое-го учителя, известного советского скульптора Николая Васильевича Томского (лауреата пяти Сталинских премий) памятник Ивану Сусанину. Никита чувствовал себя тогда победителем.
В мастерской Лавинского, как всегда, было много народа. Карякин поздравил Никиту и спросил, а что он думает о работах Неизвестного.
– Опять Неизвестный! – снисходительно заметил Никита – Да никакой он не гений. Я его хорошо знаю, мы же вместе начинали. И вообще у него всё от Генри Мура. Сплошной плагиат! Жалкое подражание!
Тон был настолько категорический, что Карякин, устыдившись своего невежества (о Муре вообще ничего не знал) промолчал. Однако не мог не поразиться какой-то озлобленности, ревности, чтобы не сказать – зависти. Но надо знать Карякина. Так этого он оставить не мог. Решил сначала ликвидировать свою скульптурную неграмотность. Раздобыл альбомы Мура и его статьи, месяца два изучал.
Читает самого Мура: «…однажды, лежа на берегу океана, я вдруг залюбовался «голыша-ми» – вот камушки, сотворенные и обласканные вековечной работой воды, ветра и солнца. А еще в «голышках» есть отверстия, столь же плавные, как весь камень. «Я постиг объем, постиг скульптуру, постиг другую – ТУ – сторону, другое измерение…»
Тут Карякину приходит дерзкая мысль. Чем «дыра» Э. Неизвестного отличается от «дыр» милейшего гениального англичанина? Тут не вековечная плавная работа волн, ветра и солнца. Тут – удар, катастрофа, рана. Тут страшная работа беды и боли, душевной и физической. Тут – взрыв… Пробивается, разрывается тело. Отлетают, разлетаются руки, ноги, пальцы, головы, глаза. На самом деле все это происходит в душе, с душами… Нет, нет, не в войне буквальной только дело, а в мучениях души, в поисках и страданиях духа. «Дыры» Неизвестно-го совсем другого происхождения, чем у Генри Мура.
И решился он тогда на розыгрыш, любил он их устраивать еще в нашей пражской жизни. Месяца через три взял фотографии Эрнстовых скульптур «Пророка» и «Орфея» и отправился в ту мастерскую, где был так безжалостно осмеян. Сидели почти те же люди. Он показал им фотографии: «Вот, кстати. Последние работы Мура». О, как долго они приглядывались, принюхивались, как долго ахали, охали, причмокивали, как долго молчали и еще дольше умилялись: «Да-а-а. Это тебе не твой Неизвестный». Карякин предложил выпить за здоровье Генри Мура. Выпили. А уходя, он поздравил экспертов по Муру с тем, что пили они за здоровье Эрнста Неизвестного. Надо было видеть их лица…
Удивительная встреча у Эрнста произошла с Генри Муром к концу жизни великого английского скульптора. Муру (он умер в 1986 г.) предложили сделать выставку в ООН, а обязательным условием таких выставок было участие еще одного художника. Генри Мур предложил: Неизвестный, великий скульптор мира.
РАССКАЗ КАРЯКИНА «РЕЛЬЕФ»
Но скоро все более глубокое погружение Карякина в искусство скульптора, особенно разговоры с ним – а Эрнст, с прекрасным философским образованием и необычайно эрудированный, начитанный, был потрясающим собеседником – чуть не изменили судьбу самого Карякина. Он стал писать свой первый рассказ «Рельеф».
Началось все с того, что как-то Эрик показал ему свой рельеф «Вечный круговорот», установленный в 1958 году в московском колумбарии Донского монастыря. Под землей лежит обнаженный атлет. Из его сердца растет яблоня. Молодая женщина, стоящая на земле, держит ребенка, который тянется к плодам. Над деревом летают птицы и сияет солнце, а вот лучи солнечные отбиты. Юра спросил, почему рельеф поврежден, и тут Эрик почти весело рассказал ему историю.
После разгрома выставки молодых художников МОСХа в Манеже чиновники министерства культуры в административном раже распорядились уничтожить работу «пидераса» Неизвестного. Эрнст об этом узнал случайно. Ему позвонил Глазунов и радостно сообщил, что на Донском начали сбивать его рельеф:
– Слушай, старичок, тебе повезло. Собирай пресс-конференцию для иностранных журналистов. На весь мир прогремишь.
Типично глазуновский ход. Ход Эрнста был другим: он немедленно поехал на Донской, в крематорий. Работяги только приступили к работе, срубили верхний лучик солнца. Эрнст выставил им ящик водки и помчался в министерство культуры спасать работу. Звонил всем, кому мог. Отстоял. Рельеф можно увидеть и сегодня с отбитыми лучиками солнца. Прекрасная работа.
А Карякин зачастил в крема-торий на Донском, познакомился с могильщиками. Много выпил с ними, многое узнал и написал рассказ «Рельеф». Конечно, рельеф был в рассказе только отправной точкой. Карякину нужно было выговориться, и написал он нечто среднее между эссе и публицистическими размышлениями, на что и указал ему Александр Исаевич Солженицын. Они тогда в 1965–1966 гг. сблизились и даже не-много подружились. Рассказ был принят, набран и уже шел в номер журнала «Наука и религия», где работал друг Карякина, Камил Икрамов. Но в последний момент Юра снял свой рассказ. Мне он объяснил так: «Не мое это дело – писательское. Какой я писатель!» Наверное, он был прав, а Солженицын, хотя и одобрил в целом его первую писательскую пробу пера, подробно и основательно покритиковал своего молодого друга.
РОДНОЙ ДОМ
В 1965 году мастерская Неизвестного на какое-то время стала для Карякина домом. Жить ему было негде (ушел из семьи). Эрик его приютил. Вот в его коморке на втором этаже он отсыпался, читал книги по искусству и смотрел альбомы.
Мастерская Эрика была «богемным островком» интеллектуальной элиты Москвы и одновременно, как признавал позднее сам Эрнст, – «вынужденным социальным под-валом», открытым нараспашку всегда хмельному дворовому люду, чей день начинался с мысли о бутылке. «Не окраина и не трущоба – всего восемь минут от Кремля».
В начале 1966 года, когда я вернулась из Праги, изредка и всегда с опаской совала туда свой нос. Когда бы я ни заходила (чаще все-го чтобы забрать Карякина и отвезти домой), всегда видела Эрика работающим. Он что-то лепил, отбивал молотком, укреплял стеллажи, счастливый, расставлял на них только что привезенную бронзу. В мастерской обычно сидел кто-нибудь из друзей и почитателей его таланта. Эрнст говорил с ними – он интереснейшим образом монологизировал и при этом продолжал работать, не отрываясь ни на минуту. Его мысли, определения были точны и поразительно интересны. «Ясный, рационально построенный ум, – вспоминал Вячеслав Всеволодович Иванов, лингвист, культуролог, писатель – <…> Поражала, прежде всего, его личность. Это принадлежащая ему идея диалогичности и полифонии, то есть наличия многих голосов внутри одного человека».
Друзей и собеседников у Неизвестного было немало. В мастерскую нередко заглядывали и подолгу засиживались поэты Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский, театральный режиссер Евгений Шифферс, философ и писатель Александр Зиновьев, режиссер Андрей Тарковский. Энергетическое поле высокого напряжения, ощутимо существовавшее в Неизвестном, собирало людей под стать ему. Бывали в студии академик А.Д. Сахаров, гениальный физик Л.Д. Ландау, философ Александр Пятигорский. «Мы дышали воздухом свободы, – вспоминал Мераб Мамардашвили, – когда сидели в мастерской, встречались друг с другом или просто молчали, потому что с Эрнстом разговаривать трудно, он монологист…»
Здесь можно было встретить и «ответственных» работников Международного отдела ЦК – Анатолия Черняева, Георгия Арбатова, Юрия Жилина, друзей Карякина. Их потом Неизвестный определял в своей лихо на-писанной статье «Красненькие, зелененькие и пьяненькие» как «зелененьких» – референтский аппарат. В отличии от «красненьких» – начальства, людей грубого крестьянского типа, посаженных в кабинеты, чтобы принимать всегда безупречные решения, «зелененькие» – референты, интеллигенты, должны были мычание «красненьких» превратить в членораздельную речь. Сказано жестко, но справедливо. Помню, что наш друг Толя Черняев (он заведовал консультантской группой в Международном Отделе ЦК, а потом многие годы был советником М.С. Горбачева) всерьез обиделся, прочтя эту статью. Обиду его можно было понять, ведь эти «референты» помогали Эрнсту в чем могли.
С годами все труднее объяснить, особенно людям молодым, уже новых поколений, какая борьба шла между консультантами Международного и Идеологического отделов ЦК. Если бы власти не нужно было иметь приличный фасад для Запада, многих художников-нонконформистов упрятали бы куда подальше. «…Наше общество тогдашнее было очень “многозвеночным”, – вспоминал Карякин, – мои друзья в меру своей совести и чести – каждый раз я рад это свидетельствовать – дела-ли то, что в их положении было недопустимо и невозможно. Но тем не менее они это делали, чтобы чуть-чуть помочь тому, что потом будет названо “перестройкой”. Ведь это готовилось очень исподволь, и тут было много передаточных звеньев. Была беспрерывная цепь добра, совести, чести, ума». Но Эрнст был прав, когда своим гениальным чутьем художника чувствовал и жалел «зелененьких», «тратящих свой часто незаурядный ум и талант на эту страшную игру в бисер». Он понимал, видел, как мир «красненьких» засасывает этих людей, «незаметно, день за днем, отнимая ум, инициативу, талант и в первую очередь – главное: человеческое достоинство».
Карякин рано понял это и отчаянно соскочил с эскалатора, который вез его вверх в партийную номенклатуру. Ушел в Достоевского, никому не служил и старался писать, освобождаясь от вбитых ему в голову на философском факультете МГУ марксистских штампов, чистил, как он не раз говорил, свой «от природы неплохой котелок от дерьма». Неизвестный сыграл в его жизни огромную роль. «Эрнст был у меня совершенно беспощадным критиком. Я его боялся. И ни-кто мне так не помогал. Потому что это всегда было абсолютно беспощадно и никогда не унижало. То есть я устыжался своей глупости, но не был унижен. Это важно. <…> В его мастерской был абсолютно другой художественный мир, и незнакомый, и потрясающе живой, и сразу втягивающий в себя так, что, казалось, из него уже не выберешься. И Эрнст всегда был “хозяином разговора”. Это не эгоцентризм, а просто энергетика гения, невероятная энергетика мыс-ли, духа. У меня никогда не было такого стимулятора, возбудителя, понимателя, как Эрик. Помимо всего прочего, у него невероятно мощное САМОСОЗНАНИЕ. Он – знает, ясно сознает – что творит».
МАСТЕРСКАЯ НА ПРОСПЕКТЕ МИРА
Потом была мастерская Неизвестного на проспекте Мира, в доме 41, строение 4. Она стала настоящим центром духовно-го притяжения всех надежных в умственном и нравственном от-ношении людей. Конечно, хозяин мастерской и посетители были под определенным надзором. Чувство-вали ли они этот надзор? Разумеется, чувствовали, но уже пере-стали с ним считаться. У Эрнста вообще ни перед чем не было страха. Какая-то другая точка отсчета времени и жизни и поразительное чутье на любую ложь.
Пришла к нему какая-то иностранная делегация с «сопровождением». Эрнст подходит к од-ному из «сопровождающих» и спрашивает: «Вы – полковник?» Тот опешил: «Нет, подполковник». Потом они с Юрой звали этого подполковника – «зав. отделом по нашим мозгам». Он, действительно, работал в КГБ и сильно закладывал, порой пил и с ними, чьими мозгами «заведовал». И даже жаловался им: «Да на вас, братцы, и доносить нечего. Вы всё об искусстве да философии, никакой антисоветчины». Действительно, никакой антисоветчины и не было, и не из-за этого стукача, хотя все всё понимали про существующую власть. Об этом говорить было скучно. Говорили о синтезе искусств, о Михаиле Бахтине. Конечно, был надзор и много безобразия. «Сверху» – инквизитор, главный идеолог, атеросклеротик Суслов. «Снизу» – непросыхающий, ворующий все подряд Вася…
В мастерской Эрнста всегда шла удивительно интересная насыщенная жизнь. Но я, признаюсь, старалась держаться подальше. Не только из-за страха перед гебухой, а больше из-за того, что все эти талантливые молодые ребята в те годы очень крепко пили, а это я ненавидела. Приходилось порой быть свидетелем удивительных сцен.
Однажды привожу Карякина, – я ведь всегда была за рулем, – и застаем такую картину. Эрнст сидит верхом на подполковнике (кажется, его звали Леня) и так спокойненько разговаривает с ним. У обоих разорваны рубахи. Подполковник что-то вякает, а Эрнст, не выпуская его из своих рук-клещей «Молчи, кагэбешная б…»
Вдруг скрип тормозов. Входит Женя Евтушенко. Несколько минут наблюдает сцену и исчезает. «Ну, струсил, конечно!» – первая мысль. Проходит минут двадцать. Снова скрип тормозов. Входит Женя с двумя белоснежными рубашками в руках. Бросает их на бронзового «Орфея», что стоит у двери, и уходит.
А вот еще эпизод припоминается. Май 1969 года. На нашей с Юрой свадьбе. Собственно, свадьбы никакой не было. Карякин после исключения из партии – «в черном списке», в полном загоне. Его друг Толя Куценков предоставил нам свою пустую одно-комнатную квартиру в нашем же доме (только купил кооператив и успел поставить три стула). Там и собрались друзья. Водка и винегрет. Всё. Но зато какие люди! Был и Эрнст, были и Юрины друзья, «цекисты хреновы», как звал их Эмка Коржавин. Все крепко вы-пили, и вдруг один довольно высокого ранга цекистский чиновник спьяну сильно завелся в споре с Эрнстом и дал ему пощечину. Все замерли, ожидая, что тот его просто убьет. Надо было знать силу его рук. Когда к нему однажды подослали молодчиков избить его (в разборке за получение заказа на скульптуру), он взял одного за руки и сломал их. А тут Эрнст расхохотался и неожиданно для всех сказал: «Дурак! Зачем же ты это сделал?» Ударивший побледнел, потом засопел и бросился на коле-ни просить прощения.
Эрик был взрывной, порой казалось – бесшабашный и одно-временно он был удивительно щедрым и нежным человеком. Я всегда это чувствовала, хотя все равно его побаивалась.
В феврале 1969 года совершен-но неожиданно умер мой отец. Ему не было и 65 лет. Умер от инсульта, один, в подмосковном санатории, куда никого не пускали по причине карантина (эпидемия гриппа). А меня пустили, когда отец был уже совсем плох, никого не узнавал. Никакой реанимации не было и в помине. Умер ночью. Один.
Эрнст сделал ему памятник, прекрасный. Его можно увидеть в стене Ново-Девичьего кладбища, сразу от входа налево. Теперь этот барельеф Неизвестного внесен в реестр выдающихся памятников этого знаменитого некрополя. А тогда, когда я только заикнулась Юре, Эрик сказал: «Найди красную мраморную плиту и дай мне несколько хороших фотографий отца. Все сделаю». И сделал так, что и теперь я на склоне лет, стоя перед скульптурным портретом отца, поражаюсь, как сумел он в этом рельефе выразить не только расколотый мир наш, но и характер отца, упорный, несгибаемый и взрывной.
А на свадьбу нам Эрик подарил фантастическую гравюру, которая висит теперь в моем доме и которую я только с годами на-чала понимать. В сердце, которое для Эрнста всегда было символом жизни, переплетены кровеносные сосуды. Приглядевшись, различаешь двух людей, чьи тела чудесным образом сплелись так, что нельзя отделить одного от другого. Повредишь какой-нибудь сосуд – убьешь обоих. Написал нам: «Дорогим Ире и Юре от всего сердца. Ваш Эрнст» и сказал: «Любите, ребята, друг друга, а главное – помогайте друг другу всю жизнь».
ИЛЛЮСТРАЦИИ К «ПРЕСТУПЛЕНИЮ И НАКАЗАНИЮ»
Кажется, в том же 1969 году Эрнст и Юра увлеченно работали над иллюстрациями к роману Достоевского «Преступление и наказание». У друга Юры Анатолия Кулькина, работавшего в издательстве «Наука» (он издал и мою первую книгу «Революция или реформа в Латинской Америке» в 1971 году), созрел дерзкий план. В серии «Литературные памятники» было подготовлено серьезное научное издание этого самого известного романа Достоевского. Его дополняли впервые публиковавшиеся записные книжки писателя, рукописные фрагменты, варианты отдельных глав и эпизодов романа. Подготовили его известные специалисты Л.Д. Опульская и Г.Ф. Коган. В редакционной коллегии – имена самых уважаемых ученых мужей: В.В. Виноградов, Ю.Г. Оксман, С.Д. Сказкин, Д.Д. Благой, Д.С. Лихачев… Настоящая броня для цензуры. Вот Кулькин и пригласил опального Неизвестно-го сделать иллюстрации для этого сугубо научного издания.
Эрик загорелся. Достоевский, как художник, был ему интересен, прежде всего, тем, что у него, как понимал это Неизвестный, «нет отдельных романов, отдельных заметок, а есть поток». Достоевский – художник потока, а не отдельного шедевра. «Он двигался вместе с жизнью, создавая опредмеченные медитации своих состояний, идей, спроецированных как сквозное движение через всю жизнь, от первого толчка до бесконечности». Достоевский для Неизвестного – надбытовой человек-художник. А для него самого, уже задумавшего главный проект – «Древо жизни» – важен был его собственный «симфонический поток».
Конечно, Эрнст позвал своего друга Карякина, тоже опального к тому времени, который убежал от политики в Достоевского и опубликовал несколько интересных статей.
Эрнст и Юра много говорили. Юра высказывал некоторые свои идеи, у Эрнста было немало своих соображений, но главная задача – как воплотить все эти идеи художественно. Ничего похожего на обычные иллюстрации к текстам. Неизвестный исследовал Достоевского не методом анализа, а методом параллельного творчества. А потом – вспоминает Карякин – «Эрнст стоял у медных пластин и я, замирая от восторга, глазел на его работу – настоящий творец!»
Гравюры Неизвестного вы-звали яростное сопротивление идеологических надсмотрщиков из Комитета по печати. Издание было задержано, им занимался Отдел культуры ЦК КПСС. Но иллюстрации все-таки удалось отстоять, тем более, что подписи к ним были напечатаны на смежных текстовых страницах, так что изъять их без разрушения набора не представлялось возможным. А пустить под нож такое дорогое, много лет готовившееся издание, с таки-ми именами на титульном листе… – на это не решились. Впрочем, теперь можно и признаться: у хитрого Кулькина на это и был расчет. Книга вышла в 1970 году тиражом 25 тыс. экземпляров, а теперь является библиографической редкостью. На стоящей у нас в Переделкино на «полке Неизвестного» книге надпись: «Любимому другу Юре Карякину с благодарностью за помощь и поддержку. 21.1.71. Э. Неизвестный».
ПАМЯТНИК ХРУЩЕВУ
В конце 1971 года, если память не подводит, раздался звонок от Эрнста: «Юра, зайди. Есть интересные новости». Оказалось, к нему приходили в мастерскую Сергей Хрущев и Серго Микоян. Немного помялись, посмотрели работы и потом не очень уверенно сын Хрущева попросил сделать отцу надгробный монумент. Эрнст согласился.
Есть довольно устойчивая легенда, будто Н.С. Хрущев сам завещал заказать памятник Эрнсту Неизвестному. Сам Эрнст так говорит о своем разговоре с Сергеем Хрущевым: «Я знаю, что найдутся такие, кто за мое решение на меня обрушатся, но считаю, что это месть искусства политике. Вот мой аргумент, а какие аргументы у вас: почему это должен делать я?», на что Сергей ответил: «Это завещание моего отца».
Эрнст – человек мистический. Он сам рассказывал нам, что о смерти Хрущева узнал от таксиста и в тот же момент его пронзила мысль, что ему придется делать надгробие. «Художник не должен быть злее политика», – говорит Неизвестный в своей книге. И вспоминает такую историю.
Как только Таня Харламова, самый близкий Эрику человек многие годы и наша с Юрой много-летняя подруга, сообщила ему, что Хрущева сняли (она работала референтом президента Академии наук Келдыша), Эрнст сразу по-звонил помощнику снятого генсека Лебедеву. После стычки в Манеже тот несколько раз вызывал Эрнста в ЦК и вел нескончаемые беседы на тему его покаяния, советовал и даже требовал написать письмо с тем, чтобы опубликовать его в печати. Тогда не получилось. Теперь, дозвонившись, Неизвестный сказал: «Владимир Семенович, передайте Никите Сергеевичу, что я его действительно глубоко уважаю за разоблачение культа личности и за то, что он выпустил миллионы людей из тюрем. Перед лицом этого наши эстетические разногласия я считаю несущественными и желаю ему много лет здоровья…» – «Другого я от вас, Эрнст Иосифович, и не ожидал, я это передам Никите Сергеевичу».
И теперь Неизвестный принимает предложение сына Хрущева, не зная, что тот почти уже договорился с Зурабом Церетели. Но Серго Микоян и многие друзья советуют Сергею заказать памятник именно Неизвестному, «лучшему скульптору страны». Эрнст тут же при двух Сергеях набрасывает рисунок: вертикальный камень, одна половина белая, другую заштриховал – черная, внизу большая плита. На недоуменный вопрос сына, почему черное-белое? – объясняет: «Жизнь, развитие человечества происходит в постоянном противоборстве живого и мертвого начал. Сцепление белого и черного лучше всего символизирует единство и борьбу жизни со смертью». Кажется, технарь Сергей Хрущев не очень понимал, но не возражал.
Сначала Эрнст не хотел устанавливать на памятнике скульптуру Хрущева и объяснял это так: он уже вошел в историю, его все запомнят и так. Но на скульптурном портрете настаивала Нина Петровна. Тогда Эрнст нашел совершенно неожиданное решение: бронзовая голова цвета старого золота в нише на белом мраморе на фоне черного гранита. Помнится, эта голова вызывала у меня, например, оторопь. Я даже была уверена, что родные такого скульптурного портрета не примут. Карякин молчал. Он тогда много времени проводил в мастерской и постепенно проникался общим замыслом.
Конечно, началась чиновничья волокита. Проект отказывались утверждать (ведь речь шла о Новодевичьем кладбище, главном некрополе страны). Снова предлагалось установить традиционную стелу с бюстом Хрущева. Семья, однако, настаивала на варианте Неизвестного. В конце концов, Нина Петровна позвонила Косыгину, и тот дал распоряжение ставить тот памятник, который нравится семье. Проявив незаурядное упорство и настойчивость, Сергей Хрущев сумел отстоять проект Эрнста Неизвестного. Памятник был установлен на могиле в августе 1975 года.
Памятник открыли, зато Новодевичье кладбище закрыли: официально – «на ремонт», который продолжался чуть не десять лет. Слишком много было иностранных корреспондентов и споров вокруг монумента. Вход стал только по пропускам родственникам захороненных. Сама через это прошла. Мы с братом передавали друг другу пропуск, чтобы прийти к нашему отцу.
А вокруг памятника Хрущеву и сегодня много споров: одним он нравится, другие активно против. Равнодушных мало. Бывают и такие разговоры.
– А кто сделал памятник?
– Неизвестный.
– А почему захотел сохранить свое имя в тайне?
– Да это фамилия его такая – Неизвестный. А вообще-то он известный скульптор.
– А почему половина белая, а половина – черная?
– Белое – это хорошие дела, черное – плохие.
В 1974 году вопреки всем интригам начальства МОСХа (пришлось им подчиниться приказу председателя Совета Министров А.Н. Косыгина), Неизвестный сделал барельеф «Становление человека разумного» в Институте электроники в Зеленограде.
Эрик рассказывал нам, что денег выделили мало. Видимо, не-доброжелатели надеялись, что скульптор откажется. Но Эрнст сэкономил: не стал отдавать свой эскиз в комбинат, как делали многие скульпторы, а выполнил барельеф своими руками всего с одним помощником. Когда мы увидели эту огромную работу, – не могли поверить. Площадь барельефа составила 970 квадратных метров. Это был самый большой барельеф в закрытом помещении.
То, что мы увидали – ошеломило. На рельефе был изображен зародыш в чреве матери, который своими руками преодолевает преграды. По мере роста ребенка преодолеваемые им препятствия также увеличиваются в размерах – зритель видит эту картину, переходя к левой стене. Здесь изображен работающий разум. На последней четвертой стене – летящий в космос человек как результат воплощения высшего разума.
Но Эрнст, истинный монументалист, водя нас по коридорам Института, говорил с горечью, как исказила цензура его перво-начальный замысел. Он задумал горельеф на тему космоса, который должен был обрамлять снаружи весь верхний этаж здания Института электроники. Из города, с расстояния в несколько сотен метров это было бы потрясающее зрелище! Теперь же внутри здания охватить картину в целом с расстояния в несколько метров, – трудно, если не невозможно. Ведь вместо голубого неба – давящая крыша и нависший карниз. Рельеф внутри здания потерял монументальность, да и уменьшился в 6 раз. Для библиотеки института скульптор сделал двенадцать портретов великих деятелей науки из дерева и латуни, и в том числе портрет В.И. Ленина.
Барельеф торжественно открыли, Эрнста все поздравляли, а дальше начались чудеса. Союз архитекторов представил весь проект строительства Института на Госпремию СССР. И Эрнст Неизвестный был, естественно, включен в авторский состав. В «Правде» появился очерк о монументальном искусстве, с похвалой о рельефе в Институте электроники в Зеленограде, но имя его автора не упоминалось. А потом посетившая Зеленоград комиссия комитета по премиям вычеркнула Неизвестного из авторского списка. В довершение всего появилось совсем уже смехотворное решение Союза художников, позволяющее Неизвестному делать лишь не-большие работы.
ВЫНУЖДЕННАЯ ЭМИГРАЦИЯ
Положение Неизвестного было совершенно двусмысленным. Он уже был признан лучшим скульптором у нас, его прекрасно знали в мире. Конфликт Неизвестного с Хрущевым получил со временем обратный эффект. Если «коллеги по цеху» долгое время старались избегать его, то в научных и художественных кругах нашей страны он стал очень известен. Не без иронии Эрик говорил нам, что его начали приглашать в хорошие дома. На него даже возникла своеобразная мода среди посольских работников.
Помню, как в 1969 году перед отъездом на родину посол Чили Максимо Пачеко, мой друг, разыскал меня и, помня мои рассказы о мастерской Неизвестного, попросил познакомить с ним. Ему хоте-лось купить у него что-нибудь из графики и небольшую скульптуру. Он купил и увез работы Неизвестного в далекую страну Чили.
Вокруг Неизвестного образовался свой устойчивый круг свое-образной «интеллектуальной мафии» (его выражение). Но и в конце 60-х – начале 70-х годов против него все еще пытались возбудить уголовные дела, обвиняя его в валютных махинациях и чуть ли не в шпионаже. Люди из КГБ пытались его спровоцировать и предлагали ему брать за свою работу валюту. Он отказывался наотрез. Потом шутил: до выезда из СССР не знал, как выглядит доллар.
Неизвестного приглашали работать в Европу, США, в Латинскую Америку. Помню, как радовался Эрик, получив приглашение от бразильского скульптора Оскара Нимейера. Тут и у нас с Юрой появилась надежда. Неужели откажут коммунисту Нимейеру, Лауреату Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», члену Президиума Всемирного Совета мира? Весь мир узнал этого бразильского гения железобетонной архитектуры после того, как он начал застройку новой столицы – города Бразилиа по приглашению президента Кубичека. Нимейер бывал на Кубе и в СССР. Что говорить – два гения гигантомахии могли бы найти друг друга.
Но на все приглашения Неизвестному, – а их он сам насчитал более сорока, в том числе и от Нимейера, – был отказ. Из 850 его скульптур государство приобрело всего лишь четыре. Заказов на монументальные проекты больше не было.
Неизвестного не только не выпускали из СССР, но и строго контролировали его связи с иностранцами.
Приехал в 1974 г. в Москву сенатор Эдвард Кеннеди, хотел посетить мастерскую Неизвестного, прислал Эрнсту об этом письмо. На дни этого визита у Эрнста отключили телефон, а сенатору сообщили, что Неизвестного нет в Москве. И по протоколу отправили сенатора к президенту академии наук Келдышу.
Захотела принцесса Нидерландов посетить мастерскую известного скульптора. «Он болен, принять вас не может», – разъясняют ей.
Были и смешные истории. Французский премьер Эдгар Фор во время визита в Москве сказал, что хочет купить скульптуру Неизвестного. Но как привести его в убогую мастерскую? Требуют от Неизвестного: объясните французскому премьеру, что это временный склад, вы переезжаете в новую мастерскую. Эрнст, не будь дураком, требует свое: «Дадите новую мастерскую – скажу». Обещали и… конечно, обманули.
При всем при том, в начале 70-х годов Неизвестный получил определенную поддержку наверху. Помощь Косыгина в установлении памятника Хрущеву и финансовая поддержка его последнего проекта в Зеленограде министрами Шохиным и Антоновым и даже – как поговаривали – некоторая благосклонность Андропова – вроде должны были бы обеспечить ему некоторые гарантии. Референты Юрия Владимировича Андропова заверяли его: «Мы добьемся, что-бы вы на два года выехали с советским паспортом». А потом к нему пришел, как он нам рассказывал, некий посланец, весьма симпатичный человек, и сказал: «Юрий Владимирович отстоять вас на заседании Политбюро не смог. Лучше всего вам уехать в Израиль или куда-то еще, потому что Суслов вас так не любит, что можете не на Запад поехать, а на Восток».
«Жить стало невозможно, я просто не знал, чего еще ждать», – признался Неизвестный спустя годы в одном интервью. Нападали какие-то хулиганы, даже работы – дело всей жизни – разбили. Как-то приезжаю в мастерскую, вхожу – о ужас! – все бронзы, а у меня их целая полка была, пропали. Поворачиваю голову – все гипсовые отливки разбиты в прах, уничтожено все, что многие годы делал…»
В 1976 году Эрнст Неизвестный принял решение эмигрировать.
Я НЕ ДИССИДЕНТ
Эрнст Неизвестный не раз говорил и на Западе, и у нас, что он – не диссидент, что его вынудили уехать. И здесь он очень точен в своих формулировках, как и всегда. Он – не диссидент политический. Он – великий художник. Он всегда был свободен внутренне и в своем творчестве, и во всех деяниях поступал так, как хотел. Он просто жил в другом времени, отдавая, конечно, дань этому времени (куда тут денешься!). Данте общался с Микеланджело, Неизвестный тоже общается с Микеланджело. Они общаются на своем особом языке. Это трудно понять простым смертным.
В объяснение своего решения уехать он придумал такую формулировку: «Из-за эстетических разногласий с режимом». В своих письмах Тане Харламовой, а она для нас с Юрой долгие годы оставалась основным источником информации о том, что происходит с Эриком там, за бугром, особенно в первых письмах, – настойчиво повторяются размышления Эрнста о том, что все-таки заставило его покинуть Родину, оставить родных, друзей.
«Боже мой, от кого я терпел высокомерную обезьянью тупость непонимания. Боже мой, какие бездарные и ленивые люди, какие мелкие воры и обманщики смели подозревать меня в нечистых помыслах в то время, когда я с утра до ночи трудился, влюбленный в свое искусство, с единственным желанием отдать себя, свой труд людям, пусть бесплатно, как угодно, на каких угодно условиях – только возьмите. Сколько злобы, иронии, сколько мелкого кухонного пакостничества я натерпелся! <…> Неужели я все это терпел? Этот долголетний вонючий сон, этот похабный позор, этот болотный кошмар! <…> И это они меня затравили! Они меня заставили уехать, а не я их вышвырнул вон <…> вон из моего искусства, из моей судьбы, из моей личной жизни».
Расставались тяжело. Тогда мы вообще были уверены – навсегда. Да еще напоследок чиновничья сволочь устроила ему пакость – не разрешали вывезти работы и обещали прислать своих людей, опечатать мастерскую. Но надо было знать Эрика. Он позвонил, куда надо, и сказал (слова, наверное, неточны, но смысл привожу точный): я воевал и человек контуженный. Приходите. В мастерской соберу иностранных корреспондентов. И первого, кто осмелится ко мне войти, зарублю топором. И «они» испугались.
Уезжая, Эрик оставлял друзьям скульптуры (нам достались три бронзы), рисунки, гравюры, но все-таки большую часть своих работ он сумел вывезти.
Когда он оказался в Европе, канцлер Крайский предложил ему австрийский паспорт и одну из лучших в стране студий. Вот одно из первых писем Эрика из Вены Тане Харламовой (от 7 апреля 1976 г.): «…Я отнюдь не нахожусь в эйфории, но должен сказать, что у меня такое ощущение, будто я всю жизнь готовился жить на Западе. Впервые меня не оскорбляет повседневность. Дело не в том, что мной интересуется пресса и телевидение. Если говорить правду, мне это даже мешает. Но впервые я плодотворно работаю. Пусть в номере, пусть нет денег, но я внутренне собран и ко мне никто не лезет в душу».
Однако в Вене он не остался, а поселился на время в Базеле (Швейцария), в доме музыканта Пауля Захера, мецената, одного из богатейших людей мира. Его жена Майя, тоже скульптор, боготворила Неизвестного. Но Эрнст не выдержал жизни в доме богатого человека и вскоре уехал в США, где, как ему казалось, как и в России есть простор для монументальной скульптуры.
Мы тогда мало что знали о его новой жизни. Письма доходили с большим опозданием. Нам он не писал. Ждали его писем к Лене Елагиной, его многолетней помощнице, и Тане Харламовой. Карякин был дружен с обеими.
Таня была удивительной женщиной, преданной Эрику всю жизнь. Не могу сказать, что мы были близки, у каждой из нас сложилась своя жизнь. Но я знала, что именно Таня была его настоящей женой. Уехать с ним, конечно, не могла. Но и там, в США, оставалась для него самой надежной, преданной ему женщиной. Суди-те хотя бы по этим письмам (ноябрь 1982 г.): «Для меня дело не в правде, а в подлинности, не показушная красота женщины, а темперамент. <…> Увы, подлинность – редкое качество. И когда я в прошлом письме написал тебе, что “единственное, что я потерял в прошлой жизни – это тебя”, я имел в виду твое отношение ко мне, т.е. подлинность. <…> Я был счастлив с тобой, если не всегда, то часто. <…> Что-то кажется мне, наступает время каких-то перемен. <…> …очень возможно, что скоро, а не когда-нибудь, я увижу тебя. Не теряй надежды…».
Когда Эрик женился в 1995 году на Анне Грэм, испанистке, окончившей в Москве Институт иностранных языков им. Мориса Тореза, эмигрировавшей в США в 90-е годы, Татьяна восприняла это внешне спокойно, с достоинством и, в конце концов, приняла Аню как члена семьи, когда та приехала в Россию в 1995 году вместе с мужем на открытие мемориала в Магадане. Там я и узнала Аню, с которой потом сдружилась.
Кое-что узнавали мы об Эрнсте по «вражескому» радио и от друзей. Очень обрадовало известие о том, что в 1976 году, почти сразу по приезде Неизвестного в США, в Кеннеди-центре в Вашингтоне был установлен бюст Шостаковича. По-мог Слава Ростропович. А увидели мы с Юрой эту великолепную работу мастера много лет спустя.
До нас доходили сведения о том, что Эрнст начал читать лекции в американских университетах – по искусству и философии, даже в Гарварде! И темы – позавидовать! – «Данте и Достоевский», «О синтезе в искусстве», «Древо жизни», «Искусство и свобода».
Готовясь к лекциям, Эрнст вспомнил Карякина. В письме от 26 ноября 1982 г. из Майами отдает распоряжение: «Передавай Каряке мои поздравления. Он очень вырос и стал действительно серьезным литературоведом. Я всегда говорю о нем на моих лекциях и делаю ссылки на него, как и на Бахтина и др. Передай ему это. Кроме того, он, возможно, сможет подобрать мне материалы по следующим темам: «Пространство у Достоевского и Толстого», «Формальная школа – Тынянов, Шкловский» и т.д. Кроме того, все, что исследуется Тартуской школой, Аверинцевым и т.д., мне очень интересны не только новые, но и старые материалы».
ПЕРЕСТРОЙКА. ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ. МАГАДАН
Первая встреча старых друзей Юры и Эрика произошла в 1987 году в Мексике, но по телефону. Карякина впервые выпустили, кажется, на какой-то философский или социологический конгресс. И он сразу по приезде в Мехико (а остановился он не в гостинице, а в доме у нашей «мексиканской дочки», переводчицы Сельмы Ансиры) пошел с ней в музей Троцкого, который советским людям посещать запрещалось. Там он познакомился с внуком Троцкого и его правнучкой. Она вечером улетала в Нью-Йорк. С ней Карякин передал записку Эрнсту.
Чтобы понять ее содержание, напомню, что в те дни в газете «Московские новости», с которой Карякин сотрудничал, опубликовали «Письмо десяти». Среди подписавших письмо были Зиновьев, Максимов, Любимов, Неизвестный и др. Авторы, в частности, говорили, что не поверят ни в какую перестройку и гласность, пока их письмо не напечатают в открытой печати. Вот Юра и написал ему: «Эрик, ну напечатали твое письмо. Вот тебе другой аргумент. Вчера в Москве в ЦДЛ я произносил тост за вдову Бухарина, а сегодня из Мексики шлю тебе привет с правнучкой Троцкого. Ну, мог ли ты это представить раньше? Значит, что-то происходит».
Ночью – звонок от Эрнста. По-говорили часа два обо всем. Эрнст не мог поверить, что Карякина свбодно выпустили. Значит, лед тронулся. Можно собираться в Москву.
Летом 1990 года Неизвестный приехал в Москву. Встретились, помнится, на улице Большой Якиманке. Обнялись, а мне и все еще не верилось, что это живой Эрик. Он повел нас к себе в гостиницу. Тогда она называлась «Октябрьская», теперь – «Президент-отель». Ему не терпелось сразу обсудить дела, хотелось работать.
В голове у Эрнста, как всегда, – проекты, и первое, главное – поставить Памятник жертвам сталинского террора. Рассказывает нам о задуманной им давно «Маске скорби». Тут же вспоминает, как увидел весь монумент во сне несколько лет назад, когда проснулся в своей мастерской в Сохо от проникавшего откуда-то сверху голубого свечения и сразу подумал: «Надо позвонить Карякину. Он поймет». Да у нас в то время не было телефона. Так он и не дозвонился тогда до Карякина. Эту историю он рассказал в одном из интервью, мы потом прочитали с Юрой об этом в книге «Говорит Неизвестный». И вот теперь Эрик сразу берет быка за рога.
– Мне написали ребята из Свердловского общества «Мемориал», Игорь Шварц, знаешь его?
Мои земляки просят сделать памятник репрессированным. Я привез эскизные модели. Я уже заключил договор на установку мемориала в виде горельефа из гранита высотой 15 метров. Так что давай, депутат, помогай!
Карякин к этому времени был не только депутатом, но еще и одним из учредителей общественной организации «Мемориал», возникшей снизу, среди молодых «неформалов» еще в 1987 году, и официально учрежденной в январе 1989 года на конференции, проходившей в доме культуры Московского авиационного института, при ректоре Юрии Рыжове.
В июле 1988 года специальная комиссия Политбюро ЦК КПСС принимает решение «О сооружении памятника жертвам беззаконий и репрессий». Так что Неизвестный приехал как раз вовремя и сразу стал пробивать официальную стену. Карякин был для него первый помощник.
Юра предложил сделать презентацию проекта Неизвестного «Маска скорби» в «Мемориале», но у мемориальцев еще не было своего помещения. И тогда Алесь Адамович, на правах директора Всесоюзного НИИ кинематографии, предоставил скульптору актовый зал. Собралось очень много народа, и Эрик показал свой поразивший всех нас проект монумента.
На экране, на слайде появилась огромная маска. Собственно, это было стилизованное лицо человека, из левого глаза которого текли слезы в виде маленьких масок. А вместо правого глаза чернело окно с решеткой. На обратной стороне огромного монумента у его подножья – бронзовая скульптура плачущей женщины, а над нею – распятие, но – неканоническое. Внутри монумента – как объяснил скульптор – будет расположена настоящая тюремная камера. И каждый, кто преодолеет сто ступенек наверх, окажется в ней один на какое-то время. А потом спустится, минуя распятие, к скорбящей матери или жене.
Объясняя нам свой замысел, Неизвестный сказал, что мемориал видится ему, прежде всего, как память о всех жертвах утопического сознания, ведь и жертвы, и многие палачи прошли один и тот же путь. Десятки миллионов людей верили в оказавшуюся утопи-ей мечту о социализме, о царстве добра и справедливости, но этот обещанный новый мир социализма оказался не совместим ни с совестью, ни с умом.
Вскоре после этой презентации в Москве Неизвестный улетел в Магадан, «столицу Колымского края». А 23 июля 1990 года Магаданский горисполком принял решение о сооружении в Магадане Мемориала жертвам сталинских репрессий.
«МАСКИ СКОРБИ» ЗАМЫСЕЛ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
По изначальному замыслу Эрнста «Маски скорби» должны были располагаться в трех городах, образуя «Треугольник скорби», незримой линией соединяющий Воркуту, Магадан и Свердловск. Для него очень важно было, чтобы в сознании людей его монумент был связан не только с жертвами сталинских репрессий. Хочу увековечить – не раз говорил он – память о жестокости и абсурдности «утопического сознания» или «утопического тоталитаризма».
В Магадане остался работать местный архитектор Камиль Козаев, ставший надежным помощником Эрнсту и большим другом Карякину. Он не раз потом приезжал к нам в Переделкино.
Строительство монумента начали на сопке «Крутая», где в сталинские времена находилась «транзитка» – перевалочный пункт, откуда заключенных отправляли по разным колымским лагерям.
К июню 1996 года монумент был готов, открыть его решили 12 июня в День независимости России. Эрнст прилетел с Аней накануне и пригласил нас с Юрой на открытие.
Из Москвы в Магадан летела большая делегация на двух спецрейсах. На президентском самолете: Сергей Александрович Филатов (он был тогда главой президентской администрации) с женой Галей; конечно, сам автор – Эрнст с Аней и мы с Юрой. Остальные начальники и чиновники были без жен. Мне запомнился только Александр Николаевич Яковлев, который почти весь полет говорил о чем-то очень серьезно с Эрнстом и Сергей Николаевич Красавченко (секретарь Президентского совета), который стал главным распорядителем во время полета.
Врезалась в память такая картина: Аня, уже чертовски усталая, заснула, сидя на боковом откидном диване в общей гостиной, а Эрнст улегся, положив ей голову на колени и запрокинув руки назад, за голову. Получился крест. «Ну и ну, – почему-то подумалось мне. Вот тебе, Эрик, и твой любимый символ – КРЕСТ. Теперь будете нести каждый свой крест до конца жизни». Так и вышло. Я, впрочем, тогда же сказала Ане об этом своем впечатлении.
Магадан встретил нас изморозью и холодным ветром. Мое зимнее пальто и меховая шапка были как раз то, что надо. А вот Галя, жена Филатова, легкомысленно вскочив в самолет в босоножках, видимо уже привычная к ком-форту в таких полетах (отдельная спальня, услужливые бортпроводницы и пр.), кинулась ко мне: есть ли что-нибудь на ноги? Конечно, в конце концов, все как-то утеплились и поехали ранним утром на открытие «Маски скорби». Я, как всегда, была с видеокамерой.
То, что мы увидели, оказалось куда более впечатляющим, чем первоначальный проект на слайдах. Но что поразило больше всего…
Почти вымерший город… и вдруг на открытие памятника пошли сотни, тысячи людей. Эрнст потом признался: «Меня потрясло то, что весь город пришел с детьми – никто ведь людей не гнал – сами шли, а мне говорили, что Магадан – коммунистический, что никому мой памятник не нужен… Оказалось – нужен: там ведь и сегодня много бывших заключенных. Аня моя плакала, а я святым себя чувствовал, потому что подходили, целовали руки, обнимали, рыдали…»
Поразительно было, что во-круг монумента громоздились валуны, на которых были выбиты символы всех вероисповеданий, ведь жертвами репрессий стали все – и православные, и католики, и мусульмане, и евреи, и буддисты… И вдруг я заметила камень с советской символикой – серп и молот. «Вот это да! Впрочем, Эрик же говорил, что его «Маски скорби» – это память и о коммунистах, жертвах своей коммунистической утопии».
«Я глубоко убежден, – говорил Эрнст в одном интервью, – что пе-ред лицом смерти должны утихнуть раздоры. <…> Смерть всех сближает. Ритуальные пляски чиновников над могилами усопших должны быть наказуемы».
Открытие монумента в Магадане проходило накануне выборов Ельцина на второй президентский срок. Борис Николаевич был уже серьезно болен. Первоначально он не планировал участвовать в президентских выборах. Но поразивший всех успех КПРФ на выборах в Госдуму в 1995 году заставил его изменить свое решение и пойти на вторые выборы. Вопрос действительно стоял так: или Ельцин, или победа коммуниста Зюганова и воз-врат в СССР. По данным опросов, 30% населения выражали полное согласие с высказыванием – «при коммунистах все было лучше».
Ельцин победил с трудом во втором туре, во многом благодаря поддержке генерала Лебедя, отдавшего ему голоса своих избирателей. Но какой ценой! Ельцин получил инфаркт, уже не первый. Вот в эти жаркие июньские дни 1996 года Неизвестный подарил президенту скульптуру «Проходящий сквозь стену» и пожелал ему, чтобы образ прорывающегося сквозь стену человека помог ему побороть болезнь. Эта скульптура сегодня встречает посетителей у входа в Музей изобразительных искусств им. Пушкина.
Теперь Эрик улетал в Нью-Йорк, всегда уверенный в скором возвращении. Ему вернули российское гражданство, его восстановили в Союзе художников, в 1995 году он стал лауреатом Государственной премии России.
Но, несмотря на признание и награды, работы по созданию второй «Маски скорби» в его родном Свердловске затягивались, а по-том и вовсе прекратились. В нулевые годы и последующие, когда преемники тех расстрельщиков из НКВД и КГБ вновь стали набирать силу, хотя и зовутся теперь они иначе – ФСБ!, ветераны-чекисты Свердловска оказали сопротивление установке памятника Неизвестного. Против него выступил и архиепископ Екатеринбургский и Курганский Мелхиседек: «Культурные традиции какого народа и сакральную практику какого на-рода представляет «дар» художника Неизвестного? Мы не знаем такого народа! – если не считать отдельным народом отдельных художников в сговоре с отдельными чиновниками» – витийствовал он в своем письме в Екатеринбургский городской совет. Позицию Мелхиседека поддержало общество «Отечество» – аналог национально-патриотического фронта «Память». Черносотенцы говори-ли, что автор какой-то Неизвестный и к тому же – еврей.
«Если бы моя Родина была ко мне чуть-чуть поласковее», – писал он в первые годы эмиграции. Все опять повторялось.
Создание второго монумента «Маски скорби: Европа-Азия» затянулось на 27 лет. Открыт он был, притом в усеченном виде, в ноябре 2017 года, уже после смерти Мастера. На 12-м километре Московского тракта, что идет из Екатеринбурга, совсем недалеко от географической границы двух частей света, где в годы репрессий сотрудники НКВД тайно хоронили расстрелянных, установлены два трехметровых бронзовых лика, обращенных в Европу и Азию. Из глаз у них текут слезы, также выполненные в виде скорбных человеческих лиц. Они оплакивают всех погибших и перенесших жуткие испытания в лагерях и тюрьмах.
***
В октябре 1996 года Эрнст пригласил нас с Юрой в музей изобразительных искусств им. Пушкина на презентацию иллюстрированной им книги «Екклесиаст», выпущенной издательством «Присцельс». Ирина Александровна Антонова собрала в небольшом зале «изысканную» публику. Я оказалась рядом с Борисом Абрамовичем Березовским, только что назначенным заместителем секретаря Совета безопасности. При знакомстве поразила его маленькая холодная ручка, как чешуйчатая рыбка. Держался он весьма скромно и прилично.
В центре внимания оказался, конечно, Неизвестный. Он не был многословен, но говорил очень интересно. Он сделал для этого роскошного издания двухстраничный фронтиспис-разворот и тридцать иллюстраций. Конечно, это не были иллюстрации в обычном понимании этого слова. Скорее – результат собственного про-чтения и понимания может быть самого поэтического и даже вольнодумного текста книги Ветхого Завета. Темой его рисунков стало – ПРЕОДОЛЕНИЕ. Будто говорил о себе самом, ведь всю жизнь преодолевал сопротивление, проходил через стену непонимания и часто открытой вражды.
Для нас стало уже привычно, что в Москве и в других городах России открывались монументы Неизвестного. В мае 1995 года на Одесском морском вокзале появился очень интересный монумент – «Золотое дитя» – яркий, солнечный образ рождающегося гиганта, что-то вроде маленького Гаргантюа, как надежда на процветание вольного города.
В конце 1996 г. в Элисте (Калмыкия) был открыт монумент «Исход и возвращение», памятник калмыкам, выселенным по приказу Сталина в декабре 1943 года с родной земли. В январе 1997 года мы заехали к Эрнсту в гостиницу поздравить его с очередным триумфом. Неожиданно встретили там Илюмжинова. По видимости – скромный аспирант. На самом деле – цепкий (но по-восточному скрытный и в то же время по-западному улыбчивый) взгляд, именно цепкий: очень внимательно слушает, мгновенно соображает, что-то там про себя просчитывает на своем «компьютере», а в сущности – игрок, и бизнесмен. Карякин пошутил: «Счастлив, что присутствую при встрече двух са-мых отчаянных авантюристов от искусства и от политики».
Весной 2000 г. Эрнст пригласил нас на открытие монумента «Возрождение» в Москве, на Ордынке, в небольшом дворике бывшего особняка Морозовых-Карповых, возле храма Иверской Богоматери. Помню, долго блуждали, не зная точного адреса. Опоздали. Было много начальства. Запомнились выступавшие Лужков и Матвиенко. Эрик немного возбужден, явно доволен. Еще бы! В Москве наконец-то его могучая стела из иерусалимского камня. Центральная фигура – Архангел Михаил, предводитель небесных сил в борьбе со злом, пытается освободиться от оков. И снова цветок жизни, символизирующий прогресс и возрождение.
Очень гордился Эрнст своим памятником шахтерам Кузбасса, открытым 28 августа 2003 года, в День шахтера на территории музея «Красная Горка» в Кемерово, на правом берегу реки Томь. Мы с Юрой его не видели, но по рассказу Эрика, что ему как монумента-листу больше всего нравилось – со смотровой площадки открывался панорамный вид на весь город. И сам памятник был виден отовсюду. Заказал Неизвестному памятник губернатор Тулеев и просил его запомнить, что «в каждой шахтерской лампочке, которая горит, есть капля крови шахтера». Эрик запомнил. Двенадцатиметровый бронзовый шахтер, своего рода Прометей, держит в левой руке пылающий уголек – сердце, которое он вынул из своей груди. В 2012 году монумент «Память шахтерам Кузбасса» был назван «седьмым чудом» Кузбасса.
Но настоящим праздником для Мастера стало открытие главного монумента его жизни – «Древа жизни» в начале октября 2004 года. Он был счастлив. Свершилась мечта – ему удалось «посадить» свое дерево в Москве, на Родине, в России. 11 октября состоялось торжественное открытие монумента в вестибюле торгово-пешеходного моста «Багратион», что близ делового центра «Москва-Сити».
Неизвестный был всегда «художником потока, а не одного шедевра» (его определение). Всю жизнь он был занят одним: чело-век, Бог, гармония между Небом и Землей, перевод Библии на язык живописи и скульптуры. Недаром многие его называют Микеланджело нашего времени.
Древо жизни – это не только христианский символ. Оно встречается в различных культурах и зовется по-разному: и Мировое Древо, и Стол Мира… А в Библии, объяснял нам Эрик, – «древо» – синоним «сердца», а «сердце» – синоним «креста». Таким образом, «Древо» объединяет все три понятия. Всегда у Эрнста в любой скульптуре найдешь сердце и крест.
Работал Неизвестный над своим «Древом жизни» всю жизнь, а увидел его первый раз во сне в 1956 году. Эрнст всегда удивительно интересно рассказывал о своих замыслах. Что-то похожее ощущала я в разговорах с Элемом Климовым, который умел так ясно представить все задуманное, что уже казалось, не надо и кино снимать.
Вот рассказ Эрика, вернее мой вольный пересказ о том, как родился замысел «Древа». В 50-х годах жизнь его в Москве была тяжелой и бесперспективной, работал он много, а выставляться не давали. Много пил, заглушая боль (изуродованный позвоночник), чтобы не употреблять морфий (совет отца-врача). И рождались странные мысли – сделать снаряд времени, какую-нибудь металлическую капсулу, поместить туда свои работы, зарыть его в тайге уральской, – для потомков. Такие романтические отчаянные мысли.
И в одну ночь, во сне буквально сразу увидел «Древо жизни». Проснулся с готовым решением… «Древо жизни» – это яйцо, состоящее из семи витков Мёбиуса, сконструированных в форме сердца. Тогда «Древо» виделось ему скорее гигантским архитектурным монументом, символизирующим союз искусства и наук, возможно, гигантским зданием, а не скульптурой. Ему хотелось объединить все художественные направления века. Он обсуждал свои, казалось, сумасбродные идеи с Капицей, Ландау, Курчатовым. У Капицы даже осталась большая коллекция его рисунков к «Древу жизни». А друзья его из Международного от-дела ЦК, среди них были Черняев, Бовин, Карякин – выдвигали в своих разговорах-мечтах идею о том, что в этом огромном «Древе жизни» расположится когда-ни-будь здание ООН. Все они были дети Великой утопии, поклонники Татлина в архитектуре.
Над чем бы ни работал Неизвестный – в бронзе, графике, читал ли лекции в Гарварде – никогда не оставлял мечты о создании «Древа жизни». В 1989 г. в шведском городе Уттерсберг был даже открыт музей «Древо жизни», посвященный творчеству Эрнста Неизвестного. Но все эти мечты воплотилось в конце концов в рукотворное бронзовое семиметровое раскидистое «Древо жизни», в кроне которого можно разглядеть более 700 фигур, сделанных его руками и потому сохраняющих теплоту рук и магию его духа.
Огромная крона дерева напоминает человеческое сердце. Ствол и крона оплетены семью лентами Мёбиуса, прародителя символа бесконечности. Здесь эти ленты создают мистические и религиозные символы. «Древо жизни» утверждает веру (а без веры не может быть творчества, считает Неизвестный) «как стремление, как попытку и способ преодолеть космическое одиночество человека и предчувствие конечного ответа, находящегося как внутри, так и вне себя». Современному человеку, растерявшемуся от изобилия информации, художник будто хочет показать ценность и беспредельность человеческого «Я». Какое-то невероятное уникальное соединение монументальности и ювелирности.
У Карякина в дневнике есть запись, где он подвергает сомнению свое собственное определение «Древа жизни» как грандиозного образа ноосферы, точнее, по-новому осмысливает, расширяет и углубляет само это понятие: «Ноосфера – это господство разума, а потому в определенном смысле – гибель. “Ноо” раньше не было равно рацио, потому что познание как таковое было иерархировано, дифференцировано, расчленено. Те, кто с восторгом пользуется этим термином, не понимают гносеологического и онтологического происхождения слова. Пока не могу найти другого точного слова, но предчувствую. <…> В Библии есть “душевный человек” и “человек духовный”. Первый человек, первый Адам – душевный, второй Адам – Христос – человек духовный. Предчувствие мое такое: не РАЦИО – сфера всех лучших умов и даже не ДУХО – сфера всех лучших совестей, но радостный поиск и находка, узнавание БРАТЬЕВ». Вдруг в Ноосфере звучат совершенно различные голоса. Чувства, мысли находят друг друга, братаются, бракосочетаются. И само «Древо жизни» Неизвестного предстает как единство всех религий, не только мировых, но и самых малых. Поистине, воплощенное духовное единство, связь всего человечества». Эта композиция олицетворяет борьбу добра со злом и победу светлых сил.
«Я умру, возможно, скоро. Но вы будете распутывать мое “Древо жизни” еще много-много лет», – сказал Неизвестный в одном интервью. Ему, как и многим большим русским художникам (и Достоевскому, и Толстому, и Солженицыну), не чужд дух мессианства. Он строит свой храм, создает свою скульптуру как архитектурную микромодель Вселенной. А нашим потомкам – если мир уцелеет и не закончит самоубийством – предстоит разгадывать великое искусство Эрнста Неизвестного.
Автор текста