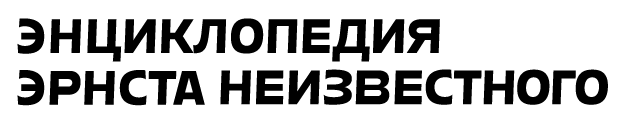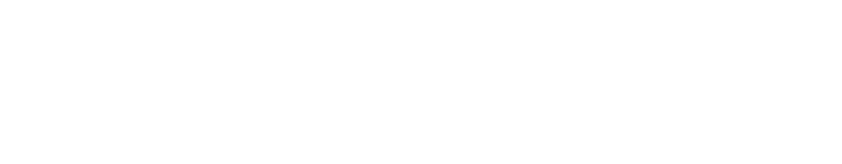Обложка: Кадр из документальной видеозаписи «Встреча с Эрнстом Неизвестным в аэропорту Свердловска». 1990
© Предоставлено Анной Пастуховой
Оригинал статьи: Информационно просветительская газета ВРЕМЯ № 8. 27 августа 2018 г. «Волович о Неизвестном… Монолог-компиляция»
Оглавление
Немного о главном
Виталий Волович и Эрнст Неизвестный. Два художника. Два Мастера. Две фигуры необычайного таланта. Такие разные и такие непостижимые. Им довелось быть частью одной культуры, одной эпохи, одной… среды. Знакомство друг с другом, несомненно, оставило в них след. С помощью воспоминаний мы можем «услышать» мысли Виталия Воловича о его давнем знакомце.
Знакомство и первые впечатления
Я знал об Эрнсте много раньше, [чем познакомился с ним лично]. Практически знал все, потому что мама Эрнста Неизвестного, Белла Абрамовна Дижур, была в очень близких дружеских отношениях с моей мамой — с писательницей Кларой Владимировной Филипповой. Она приходила в гости, и я слушал все эти разговоры, поначалу в пол уха, конечно, потому что в ту пору все это было мне еще не интересно.
Эрнст после фронта два года учился в Риге, в Латвийской академии художеств. Но уже в 1947 году он поступил в институт им. В.И.Сурикова в Москве.
Я увидел его впервые, кажется, в 1946 году. Он появился в училище, крепко сбитый, уверенный в себе. Он был старше нас на 3 года, но уже повидал и жизнь, и смерть. Мы были мальчишками рядом с ним.
Его лицо с характерной мимикой сразу запоминалось. Запоминался пронзительный взгляд и особенно улыбка. Она возникала отдельно от лица! Лицо оставалось неподвижным и сосредоточенным. Улыбка приклеивалась к лицу и тотчас исчезала. Некий знак улыбки. Ее условное обозначение.
Странность в его лице на всю жизнь была ощутима.
Мы льстили себе мыслью о том, что это мы заинтересовали Эрнста, а на самом деле все было не так, — на курсе младше меня вместе с моей будущей женой Тамарой Логинович училась девочка Дина Мухина — прелестная совершенно девочка, и любопытство Эрнста к художественному училищу было вызвано именно этим обстоятельством. Ну, она стала его женой — так бывает.
Потом, когда я уже учился в художественном училище, началась карьера, — если можно так сказать по отношению к художнику, — Эрнста в Москве, когда каждая его работа была либо награждена, либо охаяна — он работал в атмосфере постоянных скандалов. И Белла Абрамовна приходила в слезах. Рассказывая об этом, я представляю себе, что ей пришлось вынести. Все эти скандалы сейчас смотрятся как нечто романтическое, этакая вот история с художником. А тогда все это было чревато очень тяжелыми последствиями, и надо было обладать характером. Эрнст, конечно, был боец — это было ощутимо сразу.
Он показывал нам рисунки, которые делал в Рижской академии, где он учился очень небольшой промежуток времени. Показывал очень крепкие, очень мощные рисунки, конструктивные. Это была совершенно другая, европейская школа — не то что мы делали в художественном училище. Мы срисовывали, делали то, что называется бытовыми зарисовками, а его рисунки отличались очень точной пластической мыслью, и было заранее ясно, что это птица большого полета — потому что художнику не надо долго думать, чтобы, увидев рисунок коллеги, понять, что за этим кроется — какой уровень мастерства, мышления.
Не помню, о чем он говорил, но от него исходило ощущение огромной внутренней силы, сразу и безусловно подчиняющей себе.
Личность и характер
Личность его была поразительной.
Характерная его особенность заключалась в том, что он обладал какой-то сумасшедшей, абсолютно неистовой энергией, невероятной энергией. причем это относилось не только к работе — это было его постоянное состояние. Он самореализовывался каждую минуту своего времени, — когда он писал, когда он говорил, когда он лепил, — то есть вся его жизнь от начала до конца, от утра и до вечера была какой-то немыслимой совершенно, только ему свойственной потребностью в самовыражении. Он постоянно что-то себе доказывал и говорил. Причем я много раз был свидетелем, когда он разговаривал на высочайшем интеллектуальном и эмоциональном уровне с людьми, которые для него не могли ничего значить. Ему не важно было, перед кем говорить, — ему важен был сам этот процесс самореализации. Это было уникальное, поразительное его свойство.
Даже если возникало несогласие с ним, должно было пройти время, чтобы освободиться от магии его личности.
Вообще, поразительна готовность его мысли. Ее спрессованность. Ее мощная концентрация. В нем живет вулканическая и постоянная потребность в самореализации. Ежечасно. Ежеминутно. В любое время и на любом уровне. В литературе, философии, рисовании, пластике, просто беседе.
Мастерская
В Москве я часто бывал у него в мастерской. И в маленькой — на Сретенке. И в большой — на проспекте Мира. Его мастерские, независимо от размера, всегда были забиты, заставлены, завешаны работами. Их переполняла энергия. Она просто клокотала в скульптурах, офортах, рисунках.
Я был в курсе всех тех скандалов, побед, достижений, репутации, славы — потому что приезжая в Москву, бывал у него в мастерской постоянно. А его мастерская на Сретенке была очень небольшая — практически без прихожей. Там не было коридора — открываешь дверь с улицы и сразу оказываешься в небольшом пространстве, заставленном скульптурами сверху до низу. Это производило совершенно магнетическое впечатление — потому что никому из нас в голову не приходило, что человек, ОДИН человек — может сделать такое количество работ. Все было увешано рисунками. Впечатление усиливалось еще и тем, что это были не просто слепки с натуры, — это были скульптуры на основе очень мощной пластической формы, на основе суперсовременной деформации, очень выразительной и интересной. Вот это производило огромное впечатление.
Посетителей было много. Но Эрнст редко отрывался от работы. Разговаривая, он рисовал иглой на небольших, заранее приготовленных офортных досках.
Прежде чем говорить, Эрнст брал огрызок карандаша и закреплял диск телефона: «Чтоб не подслушивали, суки…» — говорил он.
В то время к нему приходили самые разные гости: великие скульпторы, приезжие знаменитости, которые оказывались в Москве в этот момент (у Эрнста была репутация уже невероятная, громкая), и каждый раз, когда посетитель уходил, Эрнст тщательно рассматривал все, что было связано с тем местом, где находился этот человек. Несколько раз он обнаруживал «Архипелаг ГУЛАГ» — кто-то приходил и подбрасывал в надежде на то, что эту книгу найдут у Эрнста в мастерской, и с ним можно будет разобраться. Я помню, что он рассказывал, как однажды обнаружил эту книгу, догнал посетителя — и врезал ему. На самом деле Эрнст и это умел делать очень хорошо.
Преступление и наказание
Однажды мы зашли к нему с Геной Мосиным и Мишей Брусиловским. Он показал нам офорты к «Преступлению и наказанию», только что им законченные. и много говорил о них. Это было сложнейшее исследование, глубокое и оригинальное. К тому же замечательное по силе и блеску изложения. Текст существовал параллельно, но был не менее глубок и содержателен, чем сами офорты.
Вот перед нами «Между топором и крестом» — знаменитая гравюра, тогда об этом говорила вся Москва, и Эрнст стал рассказывать о том, что он имел в виду, какие пружины, скрытые мотивы лежали в основе этой работы. Я ничего подобного не слышал никогда в жизни, и, если бы это было записано, — это было бы блистательнейшее эссе невероятной силы. Он говорил поразительно. Я даже не знаю, что было лучше — книга или гравюра, которую он сделал. но то, что он рассказывал, это было не хуже. Это было тоже произведение искусства — другого жанра, но такого же, на самом деле, достоинства.
Талант
…На каком-то вечере […] с обильной выпивкой Эрнст спросил меня, ощущаю ли я себя гением? Я засмеялся и сказал: «Вот уж нет. Напротив, полон всяких сомнений.»
Эрнст сказал: «А вот я — гений».
Сказал без тени хвастовства. С огромным внутренним убеждением. Его наполняла огромная внутренняя сила. Эта же сила наполняла его работы. Масштаб личности был очевиден.
Философия творчества
Поразительна всеохватность и универсальность его идей. Но их философия не становится умозрительной, а его пластическая мощь глубоко интеллектуальна.
Он — автор крупных идей и образов: «Человек, снимающий маску», «Орфей», «Человек, проходящий сквозь стену» и, наконец, распятия с их идеей креста внутри человека, быть может, одна из самых глубоких догадок в истории и культуре ХХ века.
Искусство Эрнста Неизвестного, быть может, один из последних эпизодов эпохи гуманизма. В его творчестве человек все еще занимает первое место.
Но в эпоху гуманизма человек — совершенное воплощение божественного замысла, его вершина, его венец.
В искусстве Неизвестного — человек надломлен, деформирован, но еще полон невероятной духовной мощи, воли к борьбе, к колоссальному напряжению всех своих сил.
В его искусстве — величие античной трагедии. Человек обречен, но восстает против воли богов, против судьбы, против смерти.
Сопротивление — смысл и пафос искусства Эрнста Неизвестного. Его рисование наполнено огромной энергией. В ней реализуется мощь и воля творческой личности автора, адекватной его сюжетам и идеям, его миропониманию…
Опасность
Он уезжал в 1976 году, у меня была персональная выставка в Москве, на улице Усиевича. На выставке была Дина Мухина. Диночка мне сказала: «Не обижайся, Эрнст не придет — он понимает, что это связано с неприятностями, которые у тебя могут быть». Мы с Мишей пожали плечами, посмеялись, но потом. Не помню сейчас, но кого-то мы с Мишей Брусиловским провожали с Киевского вокзала. На перроне встретили Б.В. Павловского.
— Говорят, у тебя на выставке Эрнст был? Смотри, могут быть неприятности…
Это было незадолго до отъезда Эрнста в Америку.
Прощание
Через несколько дней Боря Жутовский, моя жена Тамара, с которой мы были вместе в Москве, и я поехали к Эрнсту — уже на проспект Мира, там была его мастерская. Мы приехали к нему в шесть часов вечера. Первое время — минут двадцать, разговор был общий — говорила моя жена, говорил Боря Жутовский, говорил я, говорил Эрнст. Через полчаса заткнулись практически все (еще Боря Жутовский некоторое время говорил — потом замолчал и он), и вот часов с восьми вечера. (водка, конечно, стол и всё такое.) и только Эрнст говорил. Мы уехали в шесть часов утра, В ШЕСТЬ ЧАСОВ УТРА. Он говорил, не переставая, и я думаю, если бы у меня был тогда магнитофон, диктофон — если была бы возможность записать этот рассказ — конечно, это был бы увлекательнейший роман. Он говорил обо всем, о жизни, об увлечениях, о трагедии, о том, что он испытывает, еще раз о знаменитой истории с выставкой с посещением Хрущева.
Это были проводы…»
Источники
Материалы, использованные в тексте, взяты из выступления Виталия Воловича на праздничном вечере в честь Дня рождения скульптора в Художественном музее Эрнста Неизвестного 9 апреля 2018 г., а также из автобиографии художника «Виталий Волович. Мастерская. Записки художника» (2008 г.).